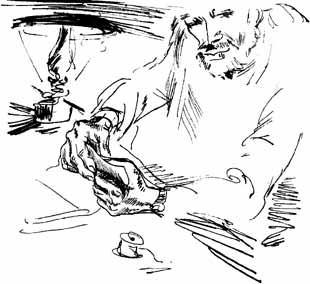| |
| |
| Несмотря
на лето, утро всегда наступало продрогшее.
От тяжелого сна полусидя, скрючившись, натянув
на голову куртку, хотелось куда-нибудь в
душное сено закопаться и снова спать, спать,
не пробуждаясь. Сон, как и еда были мечтой,
а ночь всегда заставала врасплох. Куда-то
надо было деваться. Я и не заметил, находясь
на Первомайской, как стемнело. Увидел впереди
патруль и юркнул в разрушенную церковь.
Солдаты прогрохотали мимо, я успокоился
и стал осматриваться. На меня со всех сторон
глядели святые. Небо надо мной сгустилось,
а стены еще светятся, и лики смотрят, не
моргая. Я по руинам перебрался к другой
стене, святые за мной, глаз не сводят, следят.
Кинулся обратно, они мне навстречу. Купол
неба стремительно полетел вниз, голова закружилась.
Я забился в угол, они меня окружили, вытянулись,
нагибаются надо мной, разглядывают близко-близко,
глаза в глаза, и молчат. Носы удлиняются
ровной полосочкой. Чистые ясные лики. Я
разглядел их добрые, спокойные морщины,
такие были у портного, который приходил
к нам шить. У нас стояла под фанерной крышкой
швейная машина "Зингер", на ней
никто в семье не работал. А он шил для Фиры,
как взрослой, демисезонное пальто. Заодно
показывал мне, как надо слюнявить кончик
нитки, разрешал давить на педаль. "Не
спеши,- наставлял,- не сломай драгоценная
иголка. Научись сначала гладить и прыскать
как следует. Что ты себе расстраиваешься,
всему свое время. Прими в рот один глоток
вода. И дуй, чтобы у тебя над головой получилось
облако. Пускай оно себе долго висит. Потом
медленно опускается на материал, |
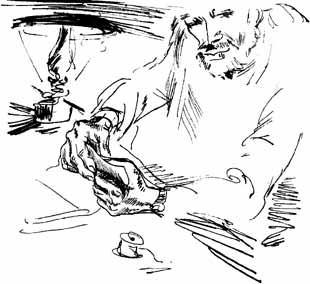 |
который
от этого становится как миленький".
Показывая, он привставал на носочки и так
вытягивался, что казалось, сам вот-вот взлетит.
Жемчужная пыль расцветала в воздухе и равномерно
стелилась на ткань. "Вот и весь фокус",-
смотрел он на меня святыми, широко открытыми
глазами, не обращая внимания на то, что
у него на кончике носа висит большая грушевидная
капля. Я долго за ней наблюдал, ждал, когда
упадет. Ему нравилось, как я ногой нажимаю
на педаль, улыбался, и нос у него опускался,
удлиняясь ровной полосочкой, как у святых.
В той разрушенной церкви я ночь простоял
и просил не трогать меня ради мамы. У нее
такие же святые глаза. А спать я не старался,
да и как уснуть в церкви, когда на тебя
смотрит столько открытых глаз. |
| На
базаре, хотя и скудном, что-нибудь, да происходило.
Стояли возы скрипучие, колеса с засохшей
грязью, сновали бабы с одним выражением:
что почем, озирались на мешках хозяева -
кабы чего не сперли, слонялись уверенные,
как вороны, перекупщики. И еще один был,
больно приметный, слепой с гармошкой, а
при нем парнишка, старше меня. Под конец
дня их обступали, знали, что будет. Только
раз при мне спросил мужик: "Девушка,
что тут?" Она оглянулась: "Какая
я тебе девушка, до тебя никому не нравилась,
что ли? Сам увидишь, деревня!" Слепой,
распуская гармошку, начинал выкрикивать
шутки-прибаутки. Сипел пропитый его голос:
"Баба, старая девица, целкой не нахвалится.
К одному ходила мыться, а к другому париться!"
Парнишка деловито считал, много ли народу
собралось. Гармошка хрипела, голос сипел:
"На деревне жил монах, три ноги носил
в штанах…" И тут парень срывался с
места, сбрасывал куртку и - по кругу, по-собачьи
заглядывая в глаза: дашь, не дашь, ну и
хрен с тобой! Отмахнувшись отчаянно и как-то
неловко выворачивая голову через плечо,
выгнулся колесом и пошел выкаблучивать,
выкручиваться, заламывать руки, выщелкивая
дробь, затрясся всем телом и по нему, то
поднимаясь, то опускаясь, покатились зыбкие
волны. Гармонь запыхалась. Волосы у него
взмокли, а лицо и руки стали белыми. Он
взмывал, легко перелетая через голову, не
касаясь земли, и так, и этак, боком, спиной,
небрежно сбивая на лету пыль с ботинок.
Наконец гармошка не выдержала, дрынькнула
и захлебнулась. Но крючковатые пальцы мальчика
судорожно перебирали по воздуху невидимые
кнопочки и музыка будто продолжала литься.
Им подавали. Кто что бросал на куртку. Одни
восклицали: "Артист! И где он такому
выучился?" Другие: "Нешто такому
выучишься, уродился горбатый". Толпа
и не заметила, как въехали машины с обеих
сторон. Немцы перекрыли выходы. Старых выпускали.
Парней и мужчин - в сторону. В мою руку
вцепился мужик: "Ты мне сын, понял?"
Когда нас остановили, он солдату: "Майн
киндер, их волен нах хауз!" Тот слушать
не стал, подтолкнул его, он меня за собой.
Слепого не тронули, а парнишку - к нам.
Погрузили в машины. По дороге говорили -
на работы везут. А загнали всех в бывший
цех. Мужик мой сразу меня шуганул: "Не
лепись, нашлись - потерялись, понял?"
Я присел между пузатым дядькой, похожим
на мешок, набитый под завязку, и женщиной
с дочкой. Мать плакала, а дочь играла, расплетала
и заплетала ей косу. Слышу в темноте: "Мы
ж им худого не сделали, разберутся".
- "Дождетесь, свезут куда подальше
и кишки по столбам развесят".- Ворота
лязгнули и появился охранник. - "Самовольно
не выходить!"- "А по нужде?"
- "Жрать не будешь и кран перевяжешь",-
хмыкнул и плотно задраил ворота. - "А
по мне и не надо, я за неделю не соберу",-
согласился пузатый. Была щель, и та померкла.
Наутро два лба, выглядывая во двор зазвали
немца и талдычили ему, что они полицаи из
Белынычей. Он не понимал. Тогда они вытянулись,
приставили два пальца к виску, отдавая ему
честь. Он рассмеялся и, прикрывая ворота,
присвистнул: "Ку-ку!" Стены цеха
были исписаны, исцарапаны: "здесь был…"
- фамилии, даты, деревни. А те двое никого
не подпускали к воротам, караулили. После
обеда, когда с балкона во двор солдаты вычищали
котелки, только они подбирали. Одному плясуну
удалось раз подхватить кусок хлеба и, на
ходу, лихорадочно, запихать в рот. Они завалили
его в цеху, стали разжимать челюсти, и тут
прорвался нечеловеческий визг: "Ийя-ма-азь!
Ийя-ма-азь!" Так он кричал, давясь,
когда из его рта пальцем выворачивали хлебную
кашу. Люди затихли и сидели безучастно.
Но встал прицепившийся ко мне на базаре
мужик: "Кто не працует, тот не жирует,
а ну, артист, дай дрозда, пока ноги до жопы
не стер! Покаж гражданочке, как пятки сверкают".
Появился охранник, уперся в меня: "Вот
ты, на выход!" Сдавило волнение. Он
отвел меня на второй этаж заводского правления
в умывальню. В раковинах стояли котелки.
"Драй до блеска, немцы грязи не любят".
Мне хотелось вылизать каждый котелок, но
я опасался, что увидят. В какое-то мгновение
показалось, что в коридоре никого нет. Выглянул
и не заметил, как очутился у открытого окна.
Прыгнул на крышу стоящего под ним ларька,
свалился с него на улицу и побежал. Уже
находясь далеко от завода, опомнился, оглянулся,
за мной не гнались. Не знаю, сверкали ли
тогда мои пятки, но всякий раз после того,
когда мне приходилось убегать, я вспоминал,
как неистово плясал на базаре артист, как
отчаянно трепыхались его белые руки. И зачем
он уродился горбатым? |
|
Есть боги, убогие, демоны злые, пророки
святые, кровавые идолы- и нет ничего,
если хотите. Весна как весна, как зеленое
племя, было и есть. А там, где появляемся
мы, восходят озимые зерна войны. Под железнодорожной
насыпью забило проточную трубу. Всю зиму
в котловане, покрытом льдом, накапливалась
вода. Немцы, опасаясь, что снесет железную
дорогу, решили воду спустить. Подрывников
смыло первых, как щепки. Лавина, прорвавшись,
неслась между берегами Дубровенки, срезая
на своем пути крыши домов, выворачивая
деревья. Не плач, не стон, звериный вой
стоял над городом. Обезумевшие, беспомощно
карабкающиеся на бревна, льдины люди,
захлебываясь, обессилев, обрывались, пропадая
в пучине. Коряги, клубки сплетенных тел,
обломки домашней утвари, перевернутые
шкафы неслись в стекловидной громаде,
тараня друг друга. В дома вонзались бешеные,
метровой толщины, льдины, легко переворачивали
крышей вниз. Спасавшиеся на них даже не
всплывали. Рев, грохот, зловещее шипенье,
визг животных слились в единый кошмарный
гул. На льдине каким-то чудом стояла,
покачиваясь, колыска. Я не видел ребеночка
тети Нади, но представилось, что это он
там лежит. Ее сынок, ее радость, ей надо
покормить маленького. Хорошая моя, добрая
тетя Надечка. А вдруг подо льдиной стучится
изо всех сил. По-мо-ги-те ей! Ребеночку
в горлышко нальется вода, вздуется живот,
и он не сможет, мертвый, сосать молочко.
Я слышу, он плачет… Нет, это на плывущих
воротах свинья по-детски всхлипывает…
Немцы бегали по обрыву, стреляли, человеческий
крик обрывался, скрежетала сплошная лавина.
Из бани никто не выскочил. Одну голую
женщину выбросило к трубе, и она как-то
зацепилась. На страшном лице безумно таращились
глаза, как стеклянные. По руке под мышку
вилась яркая лента крови. И вся она, окровавленная,
словно прикрылась прозрачной алой рубашкой.
Толпа смотрела сверху в оцепенении. Раздался
выстрел. Она подпрыгнула, будто хотела
вскочить на трубу, и опрокинулась в пучину…
|
 |
Когда
вода стала спадать, в толпе зашевелились,
пошли пересуды. " Ай, сколько наших
из-за них полегло. Наслали жиды погибель".
- "У нас жила Мера пархатая, каркала:
"Это вам даром не пройдет, будет еще
икаться! Наша кровь вашей омоется!"
- "Их не тронь, особенные, а наших
- так топить можно? Нас у нас на земле проклинали".
Женщины, убитые горем, перебивая друг дружку,
причитали: "Кровушки нашей напились
вдоволь. Слава богу, их германец вытравил".
- "Они и Христа нам своего подсунули".
- "Вон хаты нема, и старая, и девки
ее, такие ладные, сгинули. Сами туда и других
за собой тянут". - "Да заткнитесь
вы, кто вас тянет!" - "Тянут,
тянут, а что им плохо было с нами жить?
Я им огород помогала копать, ихним детям
молоко носила, за что такие проклятия?!"-
|
| "Мы
всю жизнь нищие, а они в бостонах. Хлеборобов
за Урал согнали, деревни повымерли, одни
Кагановичи остались. Загубили земелечку,
бесово племя. Слава богу, германец сгреб
с нашей шкуры паразитов поганых".-
"Это подумать жуть, сколько людей с
базара в Днепр снесло. Может, всплывут где?".
Потрясенные бабы кипят, тычут руками. Я
отчетливо слышу: "Сами туда и нас за
собой…" У кромки воды извиваются водоросли.
Они, как волосы длинные, мамины. Такие и
у Фирки были, и у Генички. Только под водой
позеленели. Из-за волос не видно их лиц.
Но они там вместе с Дорой, тетей Надей и
ее ребеночком. И мой папа глаза от воды
зажмурил. К ним приблизились ладные девки
вместе со старухой. Это мои родные к себе
их потянули. А еще дядей Гриш, Матвеев,
Степанов, Аннушек, Соф, и полицаев, и ту
голую женщину в кровавой рубашке, деревья,
деревни, дома и базары… Все переплетается,
закатывается в огромный ком, больше земли,
тысячи рук тянут, тянут все за собой. И
все они стали евреями? И ветер, срывающий
листья с березы - еврей? Я родился евреем
и буду всю жизнь виноватым. А если я скрою?
Меня не будут |
| винить,
не заметят мою вредность заживу, как все.
Только буду опасаться, чтобы не узнали.
Как сейчас я прячусь от немцев, скрываю
свои вредности. Не хочу всю жизнь бояться!
Не хочу так жить. Совсем не хочу жить. Не
хочу! Не хочу… Я помчался к дому правительства,
в левое крыло которого попала бомба. На
лестничной клетке извивались одни искореженные
рельсы. Я полез наверх. Не жить, не жить,
- сверлило в голове. Кинуться вниз, и все.
На чердаке глянул сквозь обломки балок на
землю, - и в глазах помутилось. Забился
в угол. Под утро стал слышать голоса: в
другом конце здания помещались немцы. Попытался
спуститься. Снова многоэтажная яма ужаснула
меня. Я вцепился, прижался к рельсе, ощущая,
что вот-вот сорвусь. Старался вниз не смотреть…
Когда слез, подгибались коленки, так обессилел.
Измученному, мне было все равно, схватят
ли меня. Кажется, тогда я перестал так бояться
за себя. Я никого не проклинаю, как не проклинает
береза ветер. Я никого за собой не тяну.
Быть может, тянет тот, кто поднял на березу
топор, посчитав, что она выросла на его
огороде. Люди как люди. Весна как весна.
А я человек, и разлучить меня с моими родителями,
любимыми, никто и ничто не сможет. |
 |
| "Что
стоишь, таки так? Жрать хочешь, дуй за мной.
Видишь, котелок стоит, таки так? Бери, не
жмурься, шамай от пуза. Мне это добро фриц
таскает. Ему только баб веди. Любит, губа,
русских. А кто их не любит после мяса. Ты
вот что, жуй, да за буржуйкой приглядывай,
а я пока к своей сбегаю". Верткий,
сморщенный, как печеная картошка, то ли
старик, то ли всегда такой был, оставил
меня в своей комнате на первом этаже машиностроительного
техникума, битком набитого солдатами. Я
бросился уплетать, не обращая внимания на
беготню и шум, доносящийся из коридора.
Разваренная мучнистая гороховая жижа, густо
пахнущая супом с мясными консервами, не
задерживалась во рту. Я выскреб до донышка,
подбросил в печку досок и распарился. Снял
рубаху и на раскаленной местами трубе, выходящей
прямо в окно, стал утюжить швы рубашки.
Запахло паленым, складки поржавели. Вернувшись,
он сразу унюхал: "Ты что, вшей жарил?-
я не признался, боясь, что выгонит. - Эх,
матросики, до пупа волосики, до колена трусики,
тараканьи усики… Подкатись к бабе под бок,
кулакову дуньку забудешь. Она тебя и намылит
и постирает. Без скрипа пойдет, таки так.
Попадаются и зануды с задницей, как чемодан.
Я тут одной и харч, и мыло таскал, а послал
к герр коменданту, закапризничала. И чего
добилась, дура. Сын пошел тырить. Какие-то
банки у фрицев набрал, попался, заикаться
стал. А после другого раза кормит крыс в
канализационном люке. Теперь она - и глядеть-то
не на что, грабли. А фуфырилась, дура… Не
ты по нем, так он по тебе, таки так".
На его тумбочке стояла фотография: парень
на свежем могильном холмике. В одной руке
лопата, а в задранной другой бутылка. Улыбается.
Теперь я увидел, что это он, молодой, дурачится
перед аппаратом. "А фриц,- продолжал
он, шуруя в печке,- что Вася, один компот,
таки так. Подслащу, если надо, а можно,
уши откручу и скажу: так и было.- Маленький,
плюгавенький, больно крутанул меня за ухо
и закатился дробненьким гоготом.- Если не
глупый, ступай по трупам, таки так. Бабка
моя говорила, какой, мол, ты мужчина, если
не можешь зарезать- курицу. Завтра пойдем
пилить дрова. Я одно место знаю. Герр комендант
любит тепло и порядок. А бывший заведующий
мой, интеллигент пристегнутый, таперича
с голодухи дохнет. При нем студенты все
углы обшарпали, даром ученый, пользы никакой.
Сколько помню, галоши не снимал, чтоб подметки
не отваливались. Я и при нем здесь первый
уважаемый жил. Уметь надо. Против власти
- что против ветра сцать. И при немцах не
жалуюсь, таки так". |
 |
Назавтра
мы залезли под крышу пожарной каланчи. Пристроились
к балке и начали пилить. Где-то на третьем-четвертом
бревне раздался сухой резкий треск, который
его только подбодрил: "Сухая, стерва,
гореть будет жарко. Ты не дергайся, тяни
ровно. Еще одну возьмем, пополам распилим,
таки так, чтоб на машину уложить. Герр комендант
пригонит. Он тепло любит и порядок, таки
так. - Пугающий треск повторился, заставил
меня оглянуться. - Сырой ты, видать, белоручка.
Заруби себе на лбу: ежели ты, хоть случайно,
пальцы кому в железных дверях придавишь,
жми на слом. Чтоб он тебя не достал. Борьба.
Не ты по нем, так он по тебе, таки так.
И тяни, не вертись". - "Смотрите,
дядя, бревно ломается!" - "Здрасьте,
племянничек обнаружился. Дядя. Я помощник
герр коменданта, Топтунов! Тяни, не вихляй".
Я дернул на себя пилу и… раздался оглушительный
грохот. Мы оказались внизу среди балок -
подпилили основные, на которых держался
потолок. Топтун лежал и кряхтел. Подошла
машина, его перенесли, погрузились и двинулись.
Я остался, к Топтуну не пошел. |
В городе
снова рыли траншеи. Далеко за Днепром бухали
пушки. Луполово горело, немцы расчищали
местность, полыхало несколько суток. Черным
смрадом покрылось небо. Я стоял целыми днями,
высматривая наш дом и не видя его. Дым,
один едкий дым в глазах. Кому теперь скажешь,
что на том месте было, стояло, простужалось,
плакало, улыбалось… Никто не увидит. Брось
ключи звякающей памяти, как папа тогда,
и скажи: это все!
Уже в потемках, оказавшись возле машиностроительного
техникума, я почувствовал, что он пустой,
солдат нет. Меня потянуло, дверь в глухоту
открылась, и я на ощупь стал пробираться
к комнате Топтуна. От стены не отрываюсь,
абсолютно ничего не видно, одни серые искры
в глазах. Осторожно ступаю, прислушиваюсь.
И вдруг наступил на что-то покатое, мягкое.
Шагнул и чуть не свалился, ощутил, что иду
по животу, по ногам, по человеку. Мгновенно
меня подхватило, и я в беспамятстве кинулся
в темноту. Как выскочил из окна, не знаю.
К ногам прилепился ужас. Они утопали в шее,
скатывались на ребра, спотыкались на голове.
Меня несло, я падал, вставал, задыхался
и падал. Бежал и бежал в черноту, где царствовал
белый ужас. То ноги мои отставали, будто
карабкались в гору, то тело отваливалось
и тянуло назад. Шатало во все стороны. Я
наступил на человека. Куда мне теперь деваться.
Это никогда не пройдет.
И все же я вернулся туда днем. И увидел,
что это Топтун. А говорил, меня не возьмешь,
припрет, уйду с ними. Видно, герр комендант,
любивший тепло и порядок, твердо знал, что
если не ты по нему, то он по тебе, и застрелил
его, таки так. |
|
|
|
|
|
|
|
и
др :. .
статьи. .
проза. .
стихи. .
музыка. .
графика. .
живопись.
.
анимация.
.
фотография.
.
други - е.
.
по-сети-тель.
.
_____________.
.
в.с.. ..л.с..
..н.с..
.

 ..
..
|